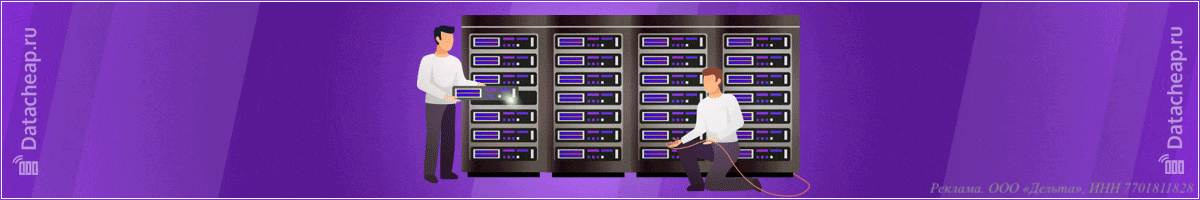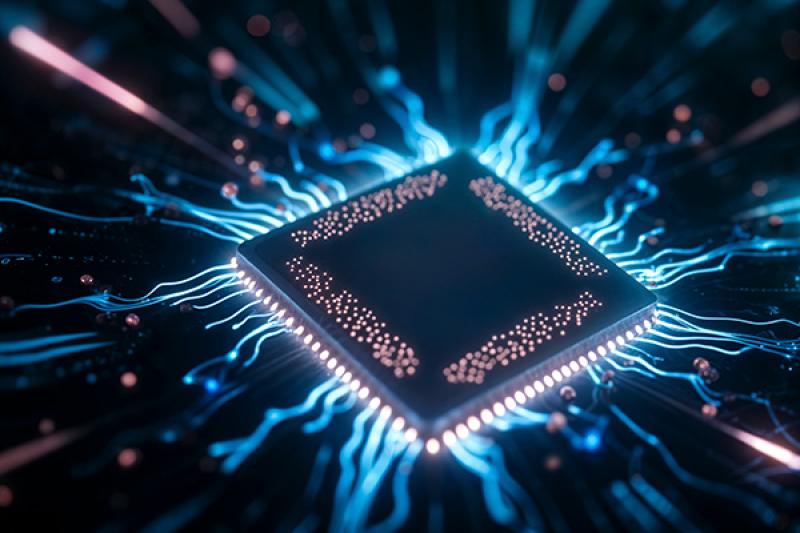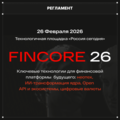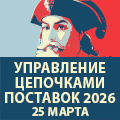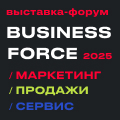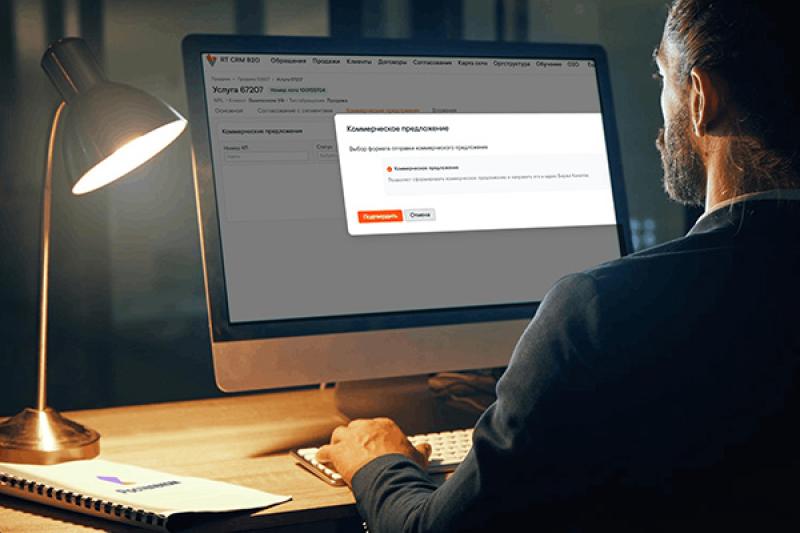Кирилл Песчаный, «Ростелеком ИТ»: «Команда – решающий фактор успеха компании»
– Кирилл, какие тенденции вы отмечаете в российской ИТ-отрасли? Как они отражаются на деятельности «Ростелекома»?
– Мы видим — в том числе здесь, на ЦИПР-2025, — что информационные технологии в России развиваются очень активно. На стендах участников— много интересных решений, сессии сопровождаются бурными дискуссиями. Одна из актуальных тем для крупных промышленных компаний – импортозамещение «тяжелых» ERP-систем. И, конечно, тема информационной безопасности никуда не ушла — особенно в свете происходящего вокруг российских организаций.

Кирилл Песчаный, вице-президент, директор по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома»
Фото: Ростелеком
Второе важное направление – всё, что связано с роботизацией и ИИ-трансформацией. Сегодня все компании стремятся к эффективности, оптимизации затрат за счет применения роботов, ИИ-агентов и других технологий искусственного интеллекта. Мы в «Ростелекоме» активно движемся в этом направлении, и, в частности, в моей команде ИТ-эксплуатации. Тема интересная, очень актуальная. В нашей компании роботизация и ИИ — это ещё и элемент нематериальной мотивации для сотрудников ИТ-эксплуатации, который помогает удерживать сильных специалистов.
Есть ещё один тренд, о котором всё чаще говорят — это возвращение иностранных вендоров. И разработчики, и заказчики начинают задумываться: а что будет, если они вернутся? Думаю, эта тема точно останется в фокусе в 2025–2026 годах.
«Ростелеком», безусловно, вносит большой вклад в развитие ИТ-отрасли России. Больше 300 наших программных продуктов включены в реестр отечественного ПО. Мы активно реализуем концепцию импортонезависимости внутри компании.
– Чего, на ваш взгляд, не хватает сегодня российским решениям? Что мы должны позаимствовать из зарубежных решений, чтобы ушедшим с рынка вендорам некуда было возвращаться?
– На самом деле, я как представитель, в том числе, заказчика ИТ-решений, не считаю, что возврат иностранных вендоров — это катастрофа. Даже если они вернутся, мы уже не сделаем шаг назад. Особенно когда речь идёт о критически важной инфраструктуре, ключевых системах бизнеса, серверных операционных системах, компаниях с госучастием.
Благодаря тому, что в 2022 году многие глобальные вендоры нас покинули, наша ИТ-отрасль – и в первую очередь заказчики – сумела преодолеть некий страх того, что мы не сможем, что наши решения нестабильные, что мы хуже, может случиться катастрофа и так далее. Мы убедились в том, что ключевые решения, связанные с операционными системами, системами управления базами данных, кибербезопасностью, серверным оборудованием, виртуализацией – уже достаточно зрелые. Конечно, есть еще, над чем работать, но тем не менее доступны решения, которые позволяют закрывать основные потребности крупного бизнеса.
Есть определенные развилки по пользовательскому программному обеспечению: в первую очередь, по офисным приложениям. Но мне кажется, возврат мировых вендоров, если он вдруг случится, даст дополнительный толчок для конкуренции и подтянет эти решения до необходимого минимума, который требуется текущим заказчикам. Мы не собираемся менять наши уже внедренные и стабильно работающие, закрывающие наши потребности, решения.
Тем не менее, отвечая на вопрос, чего не хватает: нам не хватает вендорской зрелости. Хотелось бы, чтобы разработчики переняли лучший опыт организации технической поддержки, гарантийной поддержки тех программных и аппаратных продуктов, которые они создают. Также, с моей точки зрения, пока что у некоторых вендоров недостаточно зрелый подход к ценообразованию. Хотелось бы, чтобы мы вернулись к общемировой практике, когда стоимость технической поддержки не превышает 10-15 процентов стоимости решения. Сейчас мы иногда сталкиваемся с ситуациями, когда стоимость поддержки российского программного обеспечения в два-три раза превосходит стоимость его покупки. А ведь в текущей ситуации и заказчикам, и вендорам хорошо бы друг друга поддерживать и быть предсказуемыми. Предсказуемость – это самое важное в построении долгосрочных отношений.
– Какой вы видите роль крупнейших заказчиков в развитии российского рынка ПО?
– Как я говорил, «Ростелеком» — одновременно крупнейший ИТ-заказчик и один из цифровых лидеров России. Поэтому компания может посмотреть на эту ситуацию с двух сторон. Как разработчик мы обеспечиваем, в том числе, стабильность, предсказуемость, доверенную среду. Сегодня «Ростелеком» предлагает качественные, уже широко востребованные решения: например, Basis — промышленное решение для серверной виртуализации. С другой стороны, мы являемся заказчиком крупных стабильных решений, например, таких, как СУБД, серверные операционные системы, системы общего пользования. Мы уверены, что совместное использование и развитие этих решений вносит серьезный вклад в развитие российского ИТ-рынка.
– Как «Ростелеком» обеспечивает стабильность и непрерывную работу своей инфраструктуры по всей территории страны?
– «Ростелеком» – крупная компания с большой историей и богатым наследием. Мы развивали ИТ-инфраструктуру десятки лет с участием самых разных команд. В текущем виде «Ростелеком» сформировался в 2011 году, когда к нему были присоединены семь межрегиональных телекоммуникационных компаний, у каждой из которых был свой ИТ-ландшафт, команды, оборудование. Позже присоединились и более мелкие операторы. Получился достаточно пестрый, сложный ИТ-ландшафт.
С одной стороны, у нас оказалось множество разнородных компонентов ИТ-ландшафта, требующих интеграции. С другой — теперь мы располагаем географически распределенной инфраструктурой, в том числе, в 17-ти целевых ЦОДах по всей России. Это дает нам возможность строить отказоустойчивые системы, оптимизированные с точки зрения нагрузки и распределения. Ежегодно инфраструктура «Ростелекома» растет на 15% за счет активного появления и развития новых продуктов и информационных систем. Параллельно идут активные процессы импортозамещения, которые трансформируют ИТ-среду как в части технических установок, так и программного обеспечения (ПО). Кроме того, у нас сформировалась профессиональная, слаженная и очень эффективная ИТ-команда, которая имеет опыт эксплуатации и поддержки, обеспечения стабильности и отказоустойчивости решений по всей стране. С моей точки зрения, команда – это один из ключевых и решающих компонентов нашей деятельности. Мы предоставляем сервис, который отличается высокой надежностью, быстрым реагированием и решением любых инцидентов, информационной открытостью для заказчика и в целом - эффективностью.
– Как удалось объединить эти разные фрагменты инфраструктуры, оборудование разных производителей? Приходилось ли перестраивать инфраструктуру?
– Именно так. Мы получили разнородное наследие, и было очевидно, что заменять все неэффективно. С точки зрения ИТ это, конечно, амбициозная и крайне интересная задача, но ни один бизнес ее не «купит». Поэтому такое разнообразие накладывает дополнительные требования к той команде, которая будет работать с этим «железом». «Ростелеком» не столько перестраивал ИТ-ландшафт (хотя мы активно занимаемся его импортонезависимостью и поэтапным замещением оборудования, legacy-систем), сколько, оценивая экономическую эффективность данных процессов, особое внимание уделил перестройке команды.
Если говорить о структуре ИТ-эксплуатации в «Ростелекоме», раньше она была выстроена по географическому принципу. В каждом макрорегионе был не только свой ландшафт, но и своя команда, которая занималась всем стеком программно-аппаратного обеспечения, которое там присутствовало. Для того, чтобы стать более эффективными и уйти от региональной зависимости, мы перешли к целевой модели управления ИТ-командами: сформировали центры компетенций, где команды распределены от Дальнего Востока до Калининграда, но объединены не по географии, а по компетенциями и задачам. Такая команда может решать все, что входит в ее профессиональную область, вне зависимости от местоположения.
У нас активно работает подход к удаленной эксплуатации, мы умеем работать с оборудованием и ПО без привязки к месту. Поэтому мы можем практически в любое время эффективно решать задачи. Причем для этого нам не требуется большое количество экспертов на местах.
– Как происходит непосредственно решение задачи? Правильно ли я понимаю, что эксперты удаленно консультируют инженеров, которые находятся непосредственно на месте? Или они сами постоянно ездят в командировки?
– Нет, ни в коем случае. Эксперты, которые работают с информационными системами и оборудованием, могут удаленно подключиться к любому необходимому устройству или программному обеспечению и решить задачу. Если требуется процедура, связанная с физическим действием – она действительно осуществляется полевым инженером под контролем экспертов, но опять же удаленно: по телефону, в режиме видеоконференции или просто в режиме задачи в нашем трекере, такая модель не требует высоких компетенций от полевого персонала - только ответственности и внимания. Все сложные технические задачи решаются удаленно при помощи подключения к оборудованию с того места, где эксперт находится в данный момент.
– Расскажите о роботизации бизнес-процессов компании. В чем экономическая выгода от нее?
– Еще в 2020 году одна из моих команд в режиме творческого эксперимента разработала платформу роботизации. Получив первого робота, мы поняли, что это направление очень серьезно нам поможет в будущем. Первое, самое очевидное, преимущество – это, конечно, экономия. Не секрет, что в компании, где работает более 2000 информационных систем, трудятся более 80 тысяч сотрудников, остро встает задача, связанная с выдачей доступов к этим системам. Обработкой таких простых заявок занималось большое количество сотрудников технической поддержки. Это было первое направление, которое мы роботизировали. И мы смогли получить первые эффекты от внедрения программных роботов. Следующие несколько лет мы экспериментировали с платформой, искали оптимальной и удобное для нас решение.
Предоставление доступа - это самая простая и понятная задача. Например, еще до того, как в компанию приходит новый сотрудник, на портале сервисной поддержки заводится заявка на выдачу доступов к тем системам, в которых он будет работать. На портале эти заявки расходятся по workflow: сначала происходит согласование с соответствующими ответственными, начиная от непосредственного руководителя этого сотрудника и заканчивая сотрудниками безопасности. Дальше заявки поступают на исполнение: раньше это были наряды для разных сотрудников поддержки, которые заходил в системы и совершали определенные наборы действий, создавая учетную запись с необходимым набором прав. Сейчас это делается с помощью платформы роботизации. Специальный робот фиксирует, что в его зону ответственности поступил новый тикет, определяет системы и набор полномочий, которые нужно выдать этому сотруднику, отрабатывает эту задачу и возвращает ответ, что доступ предоставлен. Если вдруг у робота что-то не получилось из-за ошибки в процессе исполнения, такая задача уже переходит человеку, который смотрит, почему робот не справился, и корректирует процесс. Но таких случаев у нас сейчас меньше 5%.
Достоинство наших программных роботов в том, что это дешевые помощники, которые сильно сокращают рутинные процессы, требующие, с одной стороны, концентрации и внимания, а с другой стороны, не требующие каких-то уникальных знаний. Такая работа, как правило, демотивирует сотрудников, ее никто не любит, из-за этого увеличивается количество ошибок, а иногда и текучка кадров. Роботы же не устают, не отвлекаются и не ошибаются в типовых сценариях.
– Какую реальную экономию это примерно дает?
– Сейчас мы расширили зону применения наших роботов. Они не только раздают права доступа, но и выполняют типовые задачи техподдержки, связанные с решением простых, но массовых инцидентов в информационных системах.
За 2024 год роботы обработали более 295 000 обращений в техническую поддержку, причем 80% заявок были решены за 20 минут, количество просроченных заявок — 0%, а удовлетворенность пользователей — 5 баллов из 5 возможных.
В 2024 году в онлайн-кинотеатре «Ростелекома» Wink вышло несколько интересных премьер, доступных только на нашей платформе. Это привело к взрывному росту количества клиентов и, соответственно, огромной дополнительной нагрузке на команды технической поддержки. Мы проанализировали новые задачи, также подключили роботов и добились решения 23% обращений на второй линии поддержки без участия человека. Опять же с высокой оценкой удовлетворенности. И это существенный прорыв, ведь обращения онлайн-зрителей гораздо меньше формализованы, чем, например, просьба руководителя предоставить доступ к системе новому сотруднику.
Мы подсчитали, что на конец 2024 года в эксплуатации ИТ-систем уже трудится более 115 роботов собственной разработки. Они забрали на себя и решили задачи трудоемкостью более чем на 1000 человеко-дней в месяц. Говоря простыми словами – это труд примерно пятидесяти человек. Конечно, хочется больше, но это только начало, направление роботизации мы будем развивать.
– Наверняка вы, как и все ИТ-компании, столкнулись с кадровым дефицитом. Как вы удерживаете, мотивируете ИТ-команду? Как конкурируете за специалистов высокой квалификации?
– Безусловно, кадровый голод ощущают все. Мы используем целую палитру способов удержания сотрудников. Первое, конечно, это финансовые условия. Все мы работаем за деньги, и важность этого фактора не стоит преуменьшать. Мы стараемся удерживать ценовые предложения для сотрудников на уровне медианных зарплат по рынку. Второе – это команда. По нашему опыту, чем грамотнее эксперт, тем более важны ему отношения внутри команды и ценность тех задач, которые он в ней решает, не последнюю роль, безусловно, играет комфортная рабочая среда: от удобного офиса, оборудования и ПО до атмосферы в коллективе. Достаточно давно, с 2017-18 годов, мы работаем по методологии Karma Framework - система организации взаимодействия команд вне зависимости от решаемых ими задач и рабочих процессов. В Karma прописаны принципы взаимодействия. Это простые ценности, которые для нас очень важны: например, клиентоориентированность, принцип нетоксичности, приоритет командного результата, доверие и человечность. Мы создали свою культуру внутри ИТ и свой манифест и требуем безусловного принятия от каждого сотрудника этих ценностей. Мы организуем комфортные условия работы, чтобы сотрудники взаимодействовали друг с другом и с клиентами в максимально партнерском и взаимовыгодном формате.
Хотя ИТ-эксплуатация должна быть хорошо формализована, у сотрудников есть достаточно большая свобода выбора — главное, чтоб он привел к достижению необходимого результата. Это позволяет людям самостоятельно принимать решения и способствует повышению мотивации коллектива.
Важным элементом нашего предложения для сотрудников является возможность удаленной работы. В зависимости от зрелости, необходимости взаимодействовать с внешними стейкхолдерами, команда может выбрать наиболее подходящий формат: полностью в офисе, гибрид или полную «удаленку». Главное, чтобы все эффективно справлялись со своей функцией.
Чтобы измерить эффективность, мы замеряем уровень «Кармы» — это оценка, которую дают команде те, кто с ней взаимодействует. Если ее уровень высокий, и команда существует автономно, мы не вмешиваемся в ее деятельность. Если появляется напряженность во взаимодействии с клиентами или коллегами, тогда есть повод наладить процессы.
И конечно, роботизация, о которой я уже много говорил, также способствует мотивации. Роботы снимают максимум рутины, пожирающую время, и оставляют задачи, требующие индивидуального подхода и изобретательности.
– Как в этом плане решаются проблемы так называемых «эффективных менеджеров»?
– В продолжение наших принципов мы внедрили у себя в ИТ People Review (процесс оценки выполненной сотрудником работы и определения специалистов с высоким потенциалом – прим. ред.). Проводим ежегодный опрос и, соответственно, собираем обратную связь по всей вертикали – от специалиста до ИТ-директора. Каждый член нашей команды получает обратную связь как сверху, так и снизу по поводу своей роли, соответствия принципам, hard и soft skills. Это дает нам понимание, как чувствуют себя команды, какая атмосфера внутри, есть ли где-то так называемые токсичные лидеры. Если необходимо – корректируем ситуацию.
Отмечу, что, по независимым исследованиям, которые проводит уже не ИТ, а HR-подразделение, eNPS (Employee Net Promoter Score, индекс лояльности сотрудников – прим. ред.) наших руководителей крайне высок, и команды умеют в онлайн-режиме давать развивающую обратную связь руководителю, если он делает что-то не то. Мы максимально оперативно реагируем на это и стараемся обучить, привить правильную культуру, но если у команды не получается найти общий язык, пытаемся как-то поменять команду и лидера.
В то же время, по моему опыту, к человечным и нетоксичным отношениям люди очень быстро адаптируются. То есть, когда ты понимаешь, что нет задачи достичь только свою личную цель, когда тебя оценивают не по тому, как быстро ты отчитался, а по результату всей команды и, самое главное, по уровню «нагретости» команды и отношениям внутри нее – как правило, люди меняются в лучшую сторону, адаптируются и понимают кайф работы в такой атмосфере. А когда вся команда заодно, она способна выполнять задачи более эффективно.
Конечно, иногда бывают ситуации, когда мы переходим в режим жесткой работы по четким указаниям высшего руководства. Это режим нетиповых ситуаций: например, когда мы готовимся к особо важным мероприятиям. Но это полезно для очень узкого, ограниченного количества задач. В основном лидер принимает решение совместно с командой, как эффективно решить поставленную задачу.
– Сейчас в командах разработки активно применяется ИИ, который самостоятельно может писать большие фрагменты кода. Насколько такая практика развита в «Ростелекоме»?
– Пока у нас нет такого кода, который полностью пишет ИИ. За каждым кодом стоит человек. Другое дело, что определенные фрагменты пишет внутренний ИИ-ассистент, который работает на нашей собственной кодовой базе. Мы не пользуемся открытыми источниками. С помощью этого ассистента разработчик может быстро получить определенный фрагмент кода, но его задача обязательно «заревьюить» (проверить на ошибки – прим. ред.) этот фрагмент, посмотреть, насколько он оптимален в использовании. Особенность большинства наших систем в том, что они достаточно высоконагруженные. Мы не можем себе позволить просто вставлять шаблонные куски, потому что вопрос производительности и оптимальности этого кода в данном случае крайне важен.
– Спасибо вам за беседу!